|
||
|
|
||
| Главная ≫ Инфотека ≫ Математика ≫ «Математика – один из самых старых видов интеллектуальной деятельности» |
«Математика – один из самых старых видов интеллектуальной деятельности»
О Москве, математике и музыке мы поговорили с Александром Буфетовым, ведущим научным сотрудником Математического института имени В.А. Стеклова, ведущим научным сотрудником ИППИ имени А.А. Харкевича, профессором факультета математики Высшей школы экономики, директором исследований Национального центра научных исследований во Франции (CNRS). Скажите, пожалуйста, какова роль школы в Вашей жизни? Считаете ли Вы, что хороший ученый должен учиться в хорошей школе, чтобы у него были сильные учителя? Да, конечно, школа сыграла огромную роль в моей жизни. Я учился во «Второй школе», как раз, когда туда пришла команда с Физтеха, возглавляемая Сергеем Алексеевичем Гордюниным, профессором факультета Проблем физики и энергетики, недавно умершим. Усилиями его и замечательного директора, Петра Вадимовича Хмелинского, началось возрождение «Второй школы». Гордюнин немного позже стал деканом факультета, и несколько моих одноклассников, естественно, пошли к нему на факультет, например, Серёжа Сибиряков, сейчас работающий в CERN’e. Некоторое время у нас вел историю Юрий Львович Гаврилов, который работал во «Второй школе» еще до ее разгрома в 71м году, в частности, был учителем истории у подруги моей мамы, её однокурсницы на Физтехе. Мы его обожали – как, кажется и его ученики семидесятых. У меня был замечательный учитель литературы и русского языка Николай Аркадьевич, поставивший вместе с моими одноклассниками на сцене актового зала «Фантазию» Козьмы Пруткова и «Как важно быть серьёзным» Оскара Уайльда. Именно так я познакомился с театром Уайльда! Он иногда уступал своё место учителя одному из нас, учеников – по очереди – например, я вёл урок по «Войне и миру». В одиннадцатом классе я не мог «врубиться» в стихи Блока и отрочески «отрицал» его (может быть, связано это с тем, что начинали, хронологически, со «Стихов о прекрасной даме», соловьёвскую мистику я и сейчас не люблю). Как по всем важным авторам, надо было сдавать «зачет» и по Блоку, а я, отличник, победитель олимпиад, не готовился и думал, что это мне сойдет с рук. Николай Аркадьевич, однако, принимал всерьёз, и после того, как я не смог ответить (вопрос был про стихи к Кармен), зачёт мне не поставил и отправил меня на пересдачу. Беру в школьной библиотеке известный шеститомник Блока, думаю печально: «И ведь всё это придется читать…» Зима, снег, я в троллейбусе еду по Ленинскому проспекту к площади Гагарина, открываю по списку нужных сочинений – «Я ломаю слоистые скалы»… как сейчас помню моё потрясение. Приведённые Гордюниным, у нас были замечательные учителя физики в школе. Мой учитель Дмитрий Анатольевич Александров работает сейчас на Физтехе. Сам Гордюнин вёл в нашем классе семинары – став деканом, он приходил реже, но впечатление было очень сильное. В 8м классе семинары по математике вёл у меня Саша Ершов (я обращался к нему по имени и до сих пор не знаю его отчества), одноклассник, если не ошибаюсь, Ивана Валерьевича Ященко. Он учил нас теории чисел (арифметика остатков произвела на меня сильнейшее впечатление), геометрии (в том числе тригонометрии, а, кроме того, требовалось решить бесконечное число задач на построение) и теории множеств. Позже Саша женился, оставил школу и стал директором рекламной службы «Известий». И у меня был совершенно потрясающий учитель математики Александр Иванович Балабанов, который очень, очень много дал мне и с которым до сих пор я регулярно созваниваюсь. Во «Второй школе» была очень мягкая обстановка, не было жесткой конкуренции между учениками. Уже позже, став студентом, я сам слышал от одного очень талантливого мальчика из одной известной московской школы: «Я в классе – второй, а первый – такой-то». К счастью, у нас в классе – и, как мне кажется, вообще в школе – ничего подобного не было. С тех пор педагогический коллектив «Второй школы» несколько раз менялся очень сильно. Ушёл Гордюнин, ушёл Хмелинский. Только немногие педагоги «Второй школы», из тех, у которых я учился, работают в школе сегодня. Недавно умер замечательный учитель истории Евгений Викторович Те, – он у меня не вел, но я его много лет знал. Переход из школы на Мехмат был для меня очень болезненным. В школе директор со мной за руку здоровался (как известно, Колмогоров подавал руку школьникам в интернате). На мехмате же студенты, принесшие фотографию не по форме, не смогли оформить читательский билет, а, значит, получить учебники (их не на всех хватало) – и начальник курса с очень поразившей меня тогда радостью всему курсу на самом первом его собрании возвестил это. У меня всё было оформлено правильно, и учебники я получил, но впечатление осталось на всю жизнь. Только гораздо позже я понял, что «Есть два мехмата» (как независимо и в разное время говорили мне Юлий Сергеевич Ильяшенко и Яков Григорьевич Синай). Спасением был Независимый московский университет. Та обстановка взаимной доброжелательности, которая была у нас в школе, примерно соответствует обстановке в Независимом Университете. Она вообще характерна для московских математиков. Независимый университет в то время помещался во «Второй школе». Школа совершенно бесплатно вечером принимала у себя Независимый университет, что, конечно, было существенным напряжением ресурсов школы в непростые 90-е годы. Разумеется, были трения, например, из-за уборки, а однажды, после занятий университета, в кабинете заперли на ночь кошку. Но директор Пётр Вадимович Хмелинский очень поддерживал университет – что не упрощало его отношений с коллективом – и у Независимого университета есть долг благодарности, в первую очередь, перед ним. Я пошел в Независимый университет потому, что это было в том же здании, не нужно было вообще никуда идти. Заканчивались уроки и кружки, а через час уже начинались занятия в Независимом университете, – естественно, я пошел. А когда приходишь в Независимый университет один раз, уже остаёшься. Если команда, которая учила Вас во «Второй школе», была из Физтеха, не было ли желания пойти на Физтех? Да, конечно, было. У меня и мама, и папа с Физтеха, и я еще в 8 лет знал, что буду учиться на Физтехе, но потом произошло неожиданное событие: в 93-м году я выиграл Московскую математическую олимпиаду. Первых премий было две – одну присудили Мише Ершову, сейчас он профессор Виргинского университета, другую мне. Как я позже узнал, олимпиада 93-го года была особой, на ней поменялась команда организаторов. Важной причин моей победы было то, что я знал тригонометрию, которую не все девятиклассники знают, а мы проходили тригонометрию еще в 8 классе с Сашей Ершовым. Покойный Игорь Фёдорович Шарыгин придумал геометрическую задачу с невероятно красивым геометрическим решением. Надо было провести совершенно неожиданную прямую, и всё мгновенно становилось ясно. Я бы до такого никогда не додумался, никогда в жизни я не мог ничего решить методом дополнительного построения. Однако задача допускала достаточно прямое вычислительное решение. Нужно было доказать, что какой-то угол равен 30 градусам, при этом данные задачи довольно просто позволяли посчитать его тангенс. В результате оказалось, что задачу решил я один, видимо, потому, что другие ребята еще не проходили этот материал. Выиграв олимпиаду, я оказался в кругу внимания московских математиков, работающих со школьниками. Со мной много занимались Алексей Яковлевич Канель-Белов, Григорий Вячеславович Кондаков, Сергей Александрович Дориченко и много других. Через год, летом 94го, этого я поехал в русско-американский лагерь, который проводили вместе Марк Саул и Григорий Вячеславович Кондаков. Это была моя первая поездка за границу, впечатления были чрезвычайно яркими. Несколько дней мы жили в семьях в Вифсаиде – пригороде Вашингтона, я попал в семью школьника по имени Джейкоб Лури. Теперь он профессор Гарварда, пленарный докладчик Конгресса, лауреат Мильнеровской премии и один из самых прославленных американских математиков. С его родителями я до сих пор встречаюсь и переписываюсь. А что для Вас Москва? Как рано Вы поняли, что Москва – Ваша Родина? И единственное ли это место для Вас, которое Вы можете назвать Родиной? Довольно поздно. Школа и Независимый поглощали всё время. Но Независимый университет получил новое здание на Арбате, я должен был туда ходить и начал гулять по старой Москве. Москва – очень трудный город в отличие, скажем, от Санкт-Петербурга. Московские памятники разбросаны, Москва очень часто разрушалась. Страшные разрушения в Москве были проведены большевиками, сперва при Ленине-Сталине, а потом при Хрущеве, кажется, даже превзошедшем в этом Сталина. Разрушено множество памятников, в т.ч. и на Арбате. Когда видишь фотографию Москвы, сделанную 100 лет назад, то хочется плакать. Оставшиеся памятники включены в какие-то уродливые дома, к ним невозможно подойти, а с постсоветским строительством всё стало еще сложнее. Знать Москву очень трудно. То, что Москва – невообразимо прекрасный город, я понял достаточно поздно. А есть ли любимые строчки о Москве, которые Вы цитируете, может быть, когда прилетаешь издалека? Например, есть всем известные строчки из «Евгения Онегина» про «стаи галок на крестах», в которых митрополит Филарет усмотрел, как известно, оскорбление святыни:
Прощай, свидетель падшей славы,
Петровский замок. Ну! не стой, Пошел! Уже столпы заставы Белеют; вот уж по Тверской Возок несется чрез ухабы. Мелькают мимо бутки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах. (А. Пушкин. «Евгений Онегин, 7-XXXVIII)
Митрополит Филарет жаловался Бенкендорфу, а призванный к ответу цензор, как пишет Лотман, «сказал, что «галки, сколько ему известно, действительно садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицмейстер, допускающий это, а не поэт и цензор»». Вообще, наше время поразительно похоже на царствование Императора Николая Павловича!
Какие у Вас любимые места в Москве – где Вы любите гулять? Назначать свидания? Да и просто размышлять? Я часто гуляю в Царицыно, с раннего детства. Очень люблю Замоскворечье, его замечательные церкви – Климента Папы Римского, Божьей Матери «Всех скорбящих радости», Храм Воскресения Христова в Кадашах, за который очень переживаю. Люблю Чистые пруды, я там совсем недавно гулял. Очень люблю Дмитровку, удивительный Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках! В Москве, к сожалению, не сохранилось – за исключением соборов Московского Кремля – действительно древних церквей. Как известно, самую древнюю церковь в Москве снесли по приказу императора Николая I, потому что она закрывала ему вид из окна только что построенного Кремлевского дворца. Императрица Екатерина Вторая предполагала взорвать соборы Московского Кремля и построить новые в стиле Растрелли. На месте сегодняшнего Храма Христа Спасителя стоял Алексеевский монастырь, бывший, насколько можно судить, архитектурным шедевром – чего про Храм Христа Спасителя сказать никак нельзя. Очень, очень многое разрушено. Достаточно вспомнить рассказ Зайцева. Герой до революции ходит по Арбату и звенят колокола на трех церквях Николая Чудотворца, потом приходит война, все меняется, но все так же звенят колокола, потом приходит революция, «выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному», но колокола звенят все так же, потом приходит НЭП, и опять все меняется, а колокола звенят все так же, и «Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет», заканчивается рассказ. Через десять лет все три церкви снесли. Москва – город призраков памятников. Как рано Вы почувствовали себя математиком? Были ли у Вас соблазны стать физиком или биологом? Естественно, предполагалось, что я буду заниматься физикой, но к физике у меня нет никакой склонности. Биология мне нравилась в школе – красота живого не может не поражать – но это не перешло в серьезный интерес. Я начал осознавать, что буду математиком после того, как выиграл московскую олимпиаду. Но сомнений было много , и окончательно я решил, что математик, гораздо позже, в Принстоне, когда получил результат, который стал главным в моей кандидатской диссертации. Тогда я понял, что пути назад нет. Мне было 25 лет. Можно говорить о таком феномене, как московская математическая школа? Да, конечно! И что это? Существует ли она по-прежнему или потихоньку из-за отъезда ученых уменьшается? Московская математическая школа очень молода. Например, петербургская школа гораздо старше. Отец поэта Андрея Белого, профессор Университета, член-корреспондент Императорской академии Николай Васильевич Бугаев, учился, если не ошибаюсь, в Германии у Вейерштрасса. Он воспитал замечательного математика Дмитрия Фёдоровича Егорова. Егоров, человек очень религиозный, был репрессирован, потом выпущен и вскоре умер. О Егорове говорят недостаточно, хотя после распада СССР стали говорить чаще. У Егорова был ученик Лузин, человек по рассказам очень непростой. Например, с его гениальным учеником Суслиным у Лузина были разногласия о приоритете; после революции Суслин уехал из Москвы и пытался найти работу в провинциальных институтах, а Лузин, по одним рассказам, дал ему отрицательную рекомендацию, по другим, отказался дать положительную. Во всяком случае, места Суслин не получил и вскоре, в возрасте 25 лет, умер от тифа. И уже следующее поколение – это Андрей Николаевич Колмогоров, которого, по его значению в истории нашей науки, можно поставить вместе с Эйлером, Пуанкаре и кем угодно, а по значению для истории русской культуры – вместе с Пушкиным и Чайковским. И пройден этот путь в очень короткий срок! Если к началу XX века Московская школа только зарождалась, то в 1950 году Москва была математической столицей мира вместе с Принстоном и Парижем. Какой областью математики Вы занимаетесь? Менялись ли эти области? Я занимаюсь эргодической теорией. Слово «эргодический» образовано Больцманом из двух греческих слов: «эргос» и «одос». «Эргос» – работа (отсюда «энергия»), «одос» – путь. Соответственно, эргодический – это относящийся к пути энергии. Эргодическая теория возникла из попыток дать математическое обоснование мысли Больцмана, что в статистической физике, вместо того, чтобы вычислять среднее по времени у какой-то системы, скажем, среднюю температуру, можно вычислять среднее по множеству всех возможных состояний системы. Это гораздо проще, потому что все возможные состояния описать гораздо проще, чем временную эволюцию. Эргодическая теория – сравнительно молодая область, начинающаяся с работ Пуанкаре по небесной механике и фон Неймана по теории операторов. В России этим стал заниматься Колмогоров, его коллеги, например, Александр Яковлевич Хинчин и его ученики, такие, как мой научный руководитель, лауреат премии Абеля 2013 года Яков Григорьевич Синай. Гильберт говорил, что никакой задачей нельзя заниматься больше 5 лет, видимо, эту мысль надо понимать так, что за 5 лет сделаешь уже всё, что в принципе можешь сделать в этом направлении. Естественно, как и все математики, я занимался разными задачами. Диплом, написанный под большим влиянием Ростислава Ивановича Григорчука, был посвящен свободным группам. Моя кандидатская диссертация, которую я написал у Синая, была посвящена задаче, предложенной Александром Григорьевичем Эскиным. Сейчас я под большим влиянием Григория Иосифовича Ольшанского. Расскажите, пожалуйста, про своего учителя Якова Григорьевича Синая? Чем его исследовательский стиль, стиль занятий математикой интересен, почему он был удостоен Абелевской премии? Сам я бы никогда не решился ехать в аспирантуру к Синаю, это было что-то за гранью реального. Между тем, в принстонскую аспирантуру поступил Вадим Калошин, мой старший коллега, писавший в Москве диплом с Аскольдом Георгиевичем Хованским. И я решил, что, хотя, конечно, не получится, попробовать всё же нужно. В Москве я много общался с учениками Якова Григорьевича Борисом Марковичем Гуревичем и Валерием Иустиновичем Оселедцем; с Борисом Марковичем мы потом, гораздо позже, написали совместную работу.
Летом Синай всегда в Москве, и я попросил Гуревича познакомить меня с Синаем. Разумеется, я бывал на докладах Синая, но никогда не решился бы подойти. Борис Маркович договорился, я позвонил Синаю, мы встретились, я начал рассказывать свою дипломную работу, Синай подождал, пока я остановлюсь, чтобы перевести дыхание, и спросил меня: «А кстати, где Вы собираетесь учиться в аспирантуре?» Поняв, что отступать некуда: «Я бы очень хотел учиться в аспирантуре Принстонского университета». Синай сказал: «Есть шанс», я подал документы и поступил. В первый год в Принстоне я занимался еще свободными группами. При этом еще в Москве Яков Григорьевич предложил мне сюжет, связанный с идеями Максима Львовича Концевича о потоке Тейхмюллера. Синай понял, что идеи Концевича преобразят область, как это через несколько лет и вышло. Из четырех Филдсовских лауреатов этого года, двоим – это Артур Авила и Мариам Мирзахани (и с ней, и с ним у меня есть совместная работа), – медаль присуждена в частности за исследования потока Тейхмюллера. Тогда, конечно, я ничего этого не понимал. Это был для меня кардинальный поворот, я несколько лет «врубался» в новый и очень трудный для меня сюжет, у меня долго ничего не получалось, и Синай меня очень поддерживал. Однажды в Вене я сказал ему «Яков Григорьевич, видите, уже несколько лет я занимаюсь, и никаких результатов», а он мне ответил: « Вы об этом даже не думайте. Вы много нового выучили, через некоторое время результаты у Вас польются рекой». Через год какие-то результаты и правда появились. Григорий Александрович Маргулис в предисловии к одной из своих книг пишет (цитирую по памяти): «Мой научный руководитель Синай оказал большое влияние на мой взгляд на математику». Я думаю, что, в частности, речь идет об удивительном эпистемологическом оптимизме Синая, по слову Гильберта: «Мы должны знать, мы будем знать!». Энтузиазм и оптимизм Синая оказывает очень сильное влияние на его учеников. Конечно, это было невероятное счастье – учиться в аспирантуре у Якова Григорьевича Синая. Что Вы находите в математике? Позволяет ли это полностью отразить Ваши способности или Вам в математике чего-то не хватает? Математика – один из самых старых непрерывных видов интеллектуальной человеческой деятельности. Для сравнения возьмём, например, театр. Мы не знаем достоверно, каким был греческий театр. Единственная непрерывно существующая форма театра – театр Но в Японии, но ему меньше 1000 лет. С другой стороны, сегодняшняя философия находится под влиянием греческой, это непрерывная традиция от Платона до наших дней (по определению Уайтхеда, философия – это примечания к работам Платона). Так и математика. Принято считать, что первым доказывать теоремы стал Фалес. Египтяне и вавилоняне теорем не доказывали. Первый шедевр на этом пути – «Начала» Евклида. Если можно сказать, что мы занимаемся философией примерно так же, как Сократ и афинские мальчики из лучших в городе семей, его собеседники в неподражаемых диалогах Платона, то с не меньшим основанием можно сказать, что мы занимаемся математикой так, как это описано в «Началах» Евклида. Это непрерывная традиция. Есть вопросы древних греков, на которые мы до сих пор не можем дать ответа, например, знаменитый вопрос о простых числах-близнецах. Впрочем, совсем недавно в нем получены новые поразительные продвижения. А в чем заключается задача? Греки спрашивают, бесконечно ли множество пар простых чисел, разница между которыми равна 2, таких, как, например, 3 и 5, 11 и 13, 29 и 31? Бесконечно ли можно продолжать такой ряд? Недавно замечательный китайский математик Жанг доказал, что, пусть не близнецы, но «дальние родственники» – существуют неограниченно. Пробелы между соседними простыми числами бесконечно часто оказываются меньше некоторой наперёд заданной константы. Удивительный прорыв!- Исходный вопрос греков остается, впрочем, нерешенным. Две недели назад я слышал доклад эксперта в этой области, замечательного турецкого математика Ильдирима , который говорил, что методы, доступные на сегодняшний день, не могут позволить нам получить ответ. Впрочем, предсказания того, что получится, а что не получится, часто оказываются ошибочными. В Принстоне, уже в новом тысячелетии, мне говорили, что мы, конечно, не доживем до доказательства гипотезы Пуанкаре --- а вскоре Перельман доказал её! Бесконечность математики можно сравнить с бесконечностью метафизики. Математика неисчерпаема, как сам человеческий разум. Каждый математик испытал удивительный переход от недоумения к ясности, когда сегодня совершенно непонятно, а на другой день – понятно. Мой научный руководитель Яков Григорьевич Синай, цитируя я забыл кого, говорил мне, «Теорема, доказанная вчера, это ещё не теорема. Теорема, доказанная позавчера – уже есть шанс». Подросток год назад был ребёнком, а через год войдёт в юность. Этот бесконечный рост и есть работа математика. Это, с одной стороны, мучительно, как и взросление подростка, а с другой стороны – невероятно волнующе. Это и есть та награда, которую мы получаем за занятие математикой. Граф Пико делла Мирандола пишет, что Бог создал мир и все создал до конца, а человека создал не до конца. В человека он вложил способность создавать себя самого. «Рождающемуся человеку Отец дал семена и зародыши разнородной жизни и соответственно тому, как каждый их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды.» Таким образом человек продолжает и завершает сотворение мира. Создавать новые миры – это привилегия математиков. Вы создаете новые миры или вы открываете миры, которые существуют у Платона? Открываете то, что уже есть в третьем мире по Платону, или все же создаете? Как и очень многие мои коллеги, я платоник и думаю, что открываем. Как пишет Платон в «Меноне», мы «вспоминаем». Этот «анамнесис», я думаю, каждый математик с ним сталкивался вживую. Когда решения ещё нет, но чувствуешь, что близок к решению. Во время диссертации, у меня была совершенно конкретная трудность, она не получалась, и мы общались с Синаем каждый день. В Принстоне это совершенно невероятно – прославленные математики очень занятые люди, и ученики видят их, скажем, раз в неделю или две недели; а я в «горячий» момент встречался с Синаем каждый день. У меня не получалось и не получалось. И в какой-то момент Синай мне сказал: «Саша, Вы близки». Как сейчас помню, я подумал: зачем он так говорил, ни к чему я не близок. Но довольно скоро всё получилось. Так вот, это чувство, что ты еще не понял, но скоро поймешь, знакомое, думаю, каждому математику, наводит меня на мысль, что мы открываем то, что есть. Существовал ли «Евгений Онегин» до того, как Пушкин его написал? Можно долго спорить, и я не об этом. Закон всемирного тяготения существовал ли до того, как Гук его обнаружил? Если на такой вопрос мы отвечаем «да», то вот в этом смысле, я думаю, что математические объекты существуют, да, до того, как мы к ним приходим. Вы – довольно активный участник и организатор поэтических вечеров в московском Независимом университете или в Летней школе математики в Дубне…. В Независимом я участвовал только один раз, читал английских поэтов Первой мировой войны, особенно, Оуэна, стихи, на которые Бриттен написал «Военный реквием». В контрасте с военным угаром русских поэтов, говорил я, даже Гумилёва, чью «Святой Георгий тронул дважды пулею не тронутую грудь», Оуэн пишет “I am the enemy you killed, my friend”. Ведь в окопах, с одной стороны, английские мальчики, а с другой – точно такие же немецкие мальчики. И зачем-то эти мальчики убивают друг друга – зачем? И почему ни один русский поэт ни слова не сказал об этом? А потом подходит ко мне Ирина Михайловна Парамонова и говорит мне: «Саша, да ведь об этом сказал ещё граф Лев Толстой в “Войне и мире” – вспомните хоть Петю Ростова и Винсента!» Скажите, пожалуйста, какова роль поэзии в Вашей жизни? Поэзия – одна из Ваших страстей? Тогда уж музыка. Математики – люди разные, и трудно сделать какое-то общее утверждение про всех математиков – как, скажем, и про всех москвичей. Однако, пожалуй, можно сказать, что среди математиков много тех, кто любит музыку. Я меньше знаком с сообществом физиков, химиков или биологов, но мне говорили, что это выделяет именно математиков. Павел Сергеевич Александров в своих замечательных воспоминаниях пишет о топологах старшего поколения, в частности, о Хаусдорфе и Брауэре. Они были совершенно разными людьми. Хаусдорф происходил из очень богатой культурной еврейской семьи. Он хотел стать композитором; писал стихи; пьеса его имела большой успех и ставилась в десятках городов. К слову, Хаусдорф – редкий пример довольно поздно сформировавшегося математика, он получил свои главные результаты после 40 лет, как Вейерштрасс. Брауэр, наоборот, был сыном простого сельского учителя. Как заключает Александров, роднило их одно, оба превосходно играли на фортепьяно. Сам Павел Сергеевич Александров был очень дружен с замечательным пианистом Константином Николаевичем Игумновым. Как известно, Александров и Колмогоров проводили в общежитии МГУ музыкальные вечера. В русской и особенно в московской жизни музыка занимает незаслуженно мало места. Концертных залов в Москве очень мало, а ведь Москва – город, по населению равный двум небольшим европейским странам (скажем, Австрии и Швеции). Но, конечно, в Вене, например, музыкальная жизнь намного активнее. Москва, к сожалению, никак не является европейской музыкальной столицей. Она очень уступает по музыкальному развитию Санкт-Петербургу. Сейчас ситуация улучшается, но гораздо больше предстоит сделать. Моя активная музыкальная жизнь началась за границей . Оказавшись в Принстоне, я начал ходить в Метрополитен и Карнеги-холл – ведь Принстон находится совсем недалеко от Нью-Йорка. В «Мет» я слышал Левайна и Тилеманна, в Карнеги-холле – Поллини, Аббадо, фон Дохнаньи. В Филадельфии я застал последний сезон Заваллиша. Таких музыкальных впечатлений, конечно, не было у меня в Москве. Читать стихи – традиция на семинаре моего учителя Юлия Сергеевича Ильяшенко. Однажды были объявлены стихи, новичок в семинаре, очень волнуясь, с бьющимся сердцем я прочёл стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», а Юлий Сергеевич сказал, чего совсем не знал я тогда, что в советское время, последний стих «И в небесах я вижу Бога» не публиковался. На предпоследнем «И счастье я могу постигнуть на земле» стихотворение обрывалось. В июле этого года, на летней школе семинара Юлия Сергеевича, его внук Фёдор и я читали по ролям сцену у фонтана из «Бориса Годунова». Фёдор был Дмитрием, Мариной Мнишек я, Юлий Сергеевич суфлёром. Расскажите о самых главных московских математических центрах. Как я уже говорил, сердце математической жизни в Москве – это Независимый математический университет. Он – та закваска, «которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё» (Мтф. 13:33). Прославленный Математический институт имени В.А. Стеклова Российской Академии наук – всемирно известный центр исследований в Москве. В Институте проблем передачи информации имени А.А. Харкевича два математическиех подразделения: Добрушинская математическая лаборатория и Сектор алгебры и теории чисел, возглавляемый Михаилом Анатольевичем Цфасманом. ИППИ РАН– очень динамичный, молодой и совершенно уникальный институт, занимающийся далеко не только математическими исследованиями, место с удивительной энергией, мои студенты сказали бы «драйвом». Математический факультет Высшей школы экономики – удивительное начинание, проект Независимого московского университета. Многие сотрудники факультета, в их числе и я, тесно связаны с Независимым университетом, а декан факультета, Сергей Константинович Ландо, был проректором Независимого университета. Факультету предстоит ещё найти свое собственное лицо, пять лет, прошедших с его создания, – срок очень краткий, еще очень большой путь предстоит пройти. Лаборатория Понселе, возглавляемая Михаилом Анатольевичем Цфасманом, – совместный проект Независимого университета и Национального центра научных исследований Франции, организующий наше сотрудничество с французскими математиками, совместные конференции, например. Хотя московская школа – непосредственный потомок немецкой (несложно проследить цепочку «учитель-ученик», ведущую от Гаусса ко мне), на сегодняшний день наиболее тесно мы связаны с французской. Эту связь и артикулирует лаборатория Понселе. На Физтехе есть замечательная кафедра на факультете инноваций и высоких технологий под руководством Андрея Михайловича Райгородского, лауреата премии Президента РФ. В Высшей школе экономики появился новый факультет компьютерных наук. Его возглавляет замечательный московский математик Иван Владимирович Аржанцев, ученик Эрнеста Борисовича Винберга. Насколько я знаю, у них очень сильный первый набор, и это замечательно! Ваши конкуренты? Естественно, конкуренция появляется сразу. В этом году 1 сентября я читал самую первую лекцию для первого курса, и студенты мне сказали, что многие их одноклассники пошли на новый факультет. Это очень хорошо. Конкуренция мобилизует обоих соперников. Наш главный конкурент – это, естественно, мехмат МГУ. На Мехмате я несколько лет читал поточные лекции по дифференциальным уравнениям, это было очень волнующе. На первую лекцию приходит весь поток. На последнюю приходит человек 30. У меня эти цифры не менялись от года к году, меня утешали, думаю, не совсем правдиво, говоря, что у всех так. Менялась, однако, скорость перехода от 120 к 30. Когда я читаю спецкурсы, у меня слушателей обычно меньше 30. Это лучше всего знакомый мне формат взаимодействия с аудиторией – я каждого знаю по имени, могу отвечать на вопросы и сам задавать их слушателям; занятие – разговор коллег. Когда число слушателей переходит за 50, это уже совсем другое. А когда оно переходит за 100 – опять совсем другое. Когда читаешь лекцию для 100 человек, возникает эмоциональное напряжение совершенно новое. Наиболее острыми были мои лекции, вместе с Владленом Анатольевичем Тимориным, по геометрии, на первом курсе Независимого университета осенью 2012 года. Первую лекцию читал я. На первую лекцию в Независимом университете приходит 250 человек. В нашу самую большую аудиторию, конференц-зал, при условии, что везде, где можно сесть – сидят, а везде, где можно встать – стоят, помещается, наверное, человек 130. Кроме того, заполняются вторая наша самая большая аудитория и столовая, туда ведется видеотрансляция. Приходят на лекции в Независимый университет ребята совершенно разные. Совсем недавно у нас на семинаре я увидел незнакомого студента и спросил у него, где они учится. Он ответил: «в МГИМО». Лекции в Независимом университете общедоступны и бесплатны, но посещение их не дает никаких государственных дипломов, ничего. Люди идут туда только потому, что они действительно хотят послушать лекцию по геометрии. Читать для такой публики особенно волнующе. Здорово! Нам нужно несколько необычных фактов о Вас. Что ни скажи, выйдет нескромно. Когда отмечалось столетие звукозаписи в 1998-м году, фирма «Полиграм» провела конкурс рецензий на пластинки. Было две категории, любителей и профессионалов, и среди любителей выиграл я, написав рецензию на известного зальцбургского «Трубадура» с Корелли и фон Караяном. То есть Вы могли бы работать музыкальным критиком, да? Меня приглашали написать о Леонтине Прайс для «Музыкальной жизни». Это не получилось. Есть ли у Вас хобби? Бальным танцам я учился много лет. Когда, лет в семь, зрение стало резко падать, врачи сказали, что можно заниматься плаванием или танцами. Продолжаете заниматься? Нет, к сожалению. Только изредка танцую. А какой Ваш любимый бальный танец? Вальс я однажды танцевал на балу Венской филармонии . В латиноамериканской программе – пасодобль (не имеющий, разумеется, никакого отношения к Латинской Америке). Ваши любимые поэты? Пушкин, Лермонтов, Блок, Цветаева. Ваши любимые композиторы? Поздние романтики, Чайковский, Брукнер, Сибелиус. Ваши любимые страны? Любимые страны… я не очень много, где был. Мое детство прошло в Грузии, и я совсем недавно был в Грузии, это волшебная страна. Италия… Первый раз за границей я был в Америке, а в Европе первый раз был в Италии. Часто езжу и влюблён. Япония произвела на меня сильнейшее впечатление. Кажется, что там инопланетяне живут, или такие же земные люди? В Японии удивительно гармоничная и очень индивидуальная яркая культура. Сейчас под влиянием глобализации это расшатывается. Я в первый раз был в 2002 году, в последний в 2012, процесс идёт. Начался он, конечно, гораздо раньше. Те, кто помнят Киото 50 лет назад, говорят, что за 50 лет многое утрачено. Вы любите японский театр Но? Да, очень люблю. Я совсем не знаю японского, но это мало ограничивает меня по сравнению с другими слушателями, потому что представление идёт на старом японском языке, которого японский зритель, не имеющий специальной подготовки, не понимает. Некоторые зрители следят по тексту. Сюжет пьесы известен заранее, он обычно очень простой. Сёгун Аcикага Ёcимицу, построивший Золотой Храм, однажды пригласил выступить перед ним двух актёров, Канами и Дзэами, отца и сына. Игра двенадцатилетнего мальчика так поразила шестнадцатилетнего сёгуна, что он взял Дзэами во дворец. Дзэами придал законченную форму традиции Но, которая так и существует по сегодняшний день – это самая давняя непрерывно существующая форма театра в мире. С началом реставрации Мэйдзи, Но оказался под угрозой уничтожения, вмешательство европейцев помогло спасти его. В середине века американская оккупация чуть не уничтожила Но, однако всё-таки удалось выстоять. Сегодня интерес к Но растёт – например, в Экс-ан-Провансе лет 20 назад появилась сцена, приспособленная для исполнения Но, и начались регулярные спектакли. Быть может, со временем, театр Но обживётся и в Москве! Спектакли театра Но должны идти на сцене определённого размера и устроенной специальным образом (гастроли на сцене Малого театра – это компромисс). Традиционно спектакль Но продолжался весь день. Пьесы Но разделяются на 5 типов в зависимости от главного героя, которым может выступать, соответственно, бог, воин, женщина (играют женские роли, разумеется, мужчины), безумец или демон; одна пьеса может относиться сразу к нескольким типам. С утра до вечера исполнялось пять пьес, по одной каждого типа, в перерывах для развлечения ставились короткие комедии. Устраивались фестивали, сёгун и двор собирались и несколько дней смотрели спектакли. Предполагалось, как и Аристотель пишет, что театр очищает дух. Сейчас, конечно, времена не те, спектакли стали гораздо короче, не больше пяти-шести часов, включая перерыв на обед; так можно исполнить только три пьесы . Существует пять школ театра Но, одна из них, по началам имен Канами и Дзэами, называется Кандзэ. А в Москве у Вас были такие театральные впечатления, сравнимые по удивлению, по восторгу? Назову три спектакля, недавно меня поразивших. К 85-летию Галины Павловны Вишневской давали «Бориса Годунова» в ее театре. Я узнал в последний момент, прибежал, билетов никаких, разумеется, не было, но я так умоляюще посмотрел на администратора, что она меня пустила. Негде было ни сесть, ни встать. Я весь спектакль простоял на одной ноге, за кабиной видео- и звукозаписи наверху на балконе, сжатый со всех сторон студентами, быть может, товарищами тех, кто пел на сцене. Это было потрясающе. Особенно сцена, где толпа требует хлеба. Хоры у них особенно хорошо вышли, впрочем, весь спектакль был фантастически ярким. Замечательный проект, за которым я несколько лет слежу, --- это фестиваль «Твой шанс», Центра на Страстном бульваре, где показывают выпускные спектакли русских театральных институтов. Недавно я понял, какое совершенно особые переживания дарит игра молодых актёров. Там много я видел замечательных спектаклей, но больше всех поразил меня «Бег», поставленный Институтом имени Щукина. Мы с другом оба были поражены остротою звучания. Конечно, насколько это было всё пророчески современно , тогда, год назад, мы не могли и догадываться. Замечательную щепкинцев «Зойкину квартиру» я видел. Театр Козлова привозил чудесного «Старшего сына». «В поисках радости» ставил ВГИК. Много замечательных проектов! Очень яркое переживание – «Гондла» Гумилева проекта «Открытая сцена», в чудном маленьком театре в подвале на Арбате. Еще я помню те времена, когда только начали печатать Гумилева. Советский Союз уже дышал на ладан. Один из первых сборников, в мягкой обложке, голубой с фотографией молодого поэта, мне тут же купили, я зачитывался. А потом в театральной серии, не помню, как она называлась, вышли драматические произведения Гумилева, в числе их и «Гондла». Чуковский, кажется, вспоминает, как Гумилёв читал «Гондлу», вдруг погас свет, а Гумилев продолжил читать, как ни в чем не бывало. Я никогда не надеялся увидеть «Гондлу» на сцене и, когда увидел афишу в интернете, тут же всё бросил и побежал, немного опаздывая, в театр – благо недалеко из Независимого. Предполагалась современная постановка, а современные постановки и неожиданные прочтения, сторонник традиционного театра, я терпеть не могу. Но получилось совершенно замечательно! Сытые молодые люди, в одной руке Iphone, в другой скейтборд, высокомерно осматривая музей, лениво, с блатными интонациями, перебрасываются репликами на жаргоне. Вдруг один из них наклоняется к экспонату и читает:
Выпит досуха кубок венчальный,
Съеден дочиста свадебный бык, Отчего ж вы сидели печальны На торжественном пире владык? Всё преображается, начинается спектакль. Как хорошо у них получилось! И последний вопрос. Как Вы думаете… жизнь вне Земли. Если ее откроют, можно ли быть уверенным, что там есть математика? Является ли математика универсальным инструментом познания мира думающих существ? История математики даёт множество примеров теорем, которые могли бы быть открыты гораздо раньше, чем это действительно произошло. Появляются новые области математики, к возникновению которых не было никаких препятствий на 100 лет раньше. Есть сравнительно недавно доказанные теоремы, и формулировка, и доказательство которых не требует никаких сведений, выходящих за рамки программы, скажем, первого курса мехмата. Например, теорема Бэртона-Пемантла об остовных деревьях 1994-го года, обобщающая теорему Кирхгофа 1847 года. Доказательство не использует ничего, что не было бы известно в 1847 году. Но появилось оно не тогда, а сейчас. У математики есть своя история. Если бы Абель не умер так рано, Галуа не убили на дуэли, Суслин устроился в Нижнем Новгороде или Саратове, то можно ли представить себе, что они бы доказали теоремы, которых мы сейчас не знаем? Конечно, можно! Будут ли эти теоремы когда-либо доказаны, – вопрос, не имеющий точного смысла. Колмогоров писал что есть такие теоремы, которые, если бы автор не доказал их, все равно обязательно были бы доказаны через 2 года или через 10 лет. А есть теоремы, про которые нельзя этого сказать. Как пример теоремы второго рода, Колмогоров приводил свое собственное открытие, которое он сделал в 19 лет, пример интегрируемой функции с расходящимся рядом Фурье. Этой работе Колмогорова уже почти сто лет. Если не ошибаюсь, его конструкция и сегодня остается по существу единственным способом строить такие примеры. Думаю, вполне можно представить себе, что если бы Колмогоров не написал эту работу, то и вопрос был бы закрыт, скажем, на 50 лет позже. Если неповторим вклад в русскую словесность каждого поэта (представьте себе, например, русскую поэзию без Тютчева), то таков и вклад в нашу науку каждого математика. Спасибо за интервью! Беседовала Наталия Демина
ТегиПохожее
|
| Главная ≫ Инфотека ≫ Математика ≫ «Математика – один из самых старых видов интеллектуальной деятельности» |
|
[time: 8 ms; queries: 7]
14 Мар 2026 13:12:33 GMT+3 |





 Мне кажется, что люди, которые сейчас занимаются математикой, делают это так же, как и двести лет назад. Отчасти потому, что не мы выбираем математику своей профессией, а она нас выбирает. И она выбирает определенный тип людей, которых в каждом поколении по всему свету несколько тысяч, не более того. И они все несут на себе печать людей, которых выбрала математика.
Мне кажется, что люди, которые сейчас занимаются математикой, делают это так же, как и двести лет назад. Отчасти потому, что не мы выбираем математику своей профессией, а она нас выбирает. И она выбирает определенный тип людей, которых в каждом поколении по всему свету несколько тысяч, не более того. И они все несут на себе печать людей, которых выбрала математика. Интервью о пути в науку, научной среде и популяризации науки с кандидатом физико-математических наук, заведующим Лабораторией нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИКС «Курчатовский Институт» Михаилом Бурцевым.
Интервью о пути в науку, научной среде и популяризации науки с кандидатом физико-математических наук, заведующим Лабораторией нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИКС «Курчатовский Институт» Михаилом Бурцевым. О продуктивности Коши-математика свидетельствует целый ряд терминов, определений и понятий, вошедших в науку, таких, как признак Коши, критерий Коши, задачи Коши, интеграл Коши, уравнения Коши–Римана и Коши–Ковалевской, относящиеся к разным разделам математического анализа, математической физики, теории чисел, и других дисциплин. Всего же он написал 700 работ (по другим источникам 800), с неимоверной легкостью переходя от одной области научного знания к другой.
О продуктивности Коши-математика свидетельствует целый ряд терминов, определений и понятий, вошедших в науку, таких, как признак Коши, критерий Коши, задачи Коши, интеграл Коши, уравнения Коши–Римана и Коши–Ковалевской, относящиеся к разным разделам математического анализа, математической физики, теории чисел, и других дисциплин. Всего же он написал 700 работ (по другим источникам 800), с неимоверной легкостью переходя от одной области научного знания к другой. Это фильм в режиме включенного наблюдения, история о реальном исследовании, которое проводится в научно-исследовательском центре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета в Берлине. В центр постоянно приезжают математики русского происхождения, работающие по всему миру. Процесс ведения научных дискуссий, запечатленный на камеру, является уникальным по силе воздействия материалом: зритель становится свидетелем размышлений ученых, возникновения гениальных идей, погружается в работу команды и разделяет весь спектр эмоций участников.
Это фильм в режиме включенного наблюдения, история о реальном исследовании, которое проводится в научно-исследовательском центре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета в Берлине. В центр постоянно приезжают математики русского происхождения, работающие по всему миру. Процесс ведения научных дискуссий, запечатленный на камеру, является уникальным по силе воздействия материалом: зритель становится свидетелем размышлений ученых, возникновения гениальных идей, погружается в работу команды и разделяет весь спектр эмоций участников. Математика — это не только замечательная точная наука, но еще и удивительные человеческие судьбы. Девушка из Ирана по имени Мариам Мирзахани стала первой в мире женщиной, получившей Филдсовскую медаль — пожалуй, самую престижную награду в математике. Мариам показала как иранским ученым, так и простым людям, в частности женщинам, — чего может добиться человек собственным умом и собственной настойчивостью.
Математика — это не только замечательная точная наука, но еще и удивительные человеческие судьбы. Девушка из Ирана по имени Мариам Мирзахани стала первой в мире женщиной, получившей Филдсовскую медаль — пожалуй, самую престижную награду в математике. Мариам показала как иранским ученым, так и простым людям, в частности женщинам, — чего может добиться человек собственным умом и собственной настойчивостью.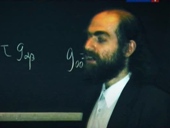 Он доказал гипотезу Пуанкре – одну из самых загадочных геометрических задач ХХ века. Возможно, что это осталось бы сенсацией лишь для узких научных кругов, но он отказался от награды в миллион долларов. А почему? Этого он никому не сказал. Впервые на отечественном экране о Перельмане рассказывают люди, которые узнали его задолго до всей этой истории, которые знают истинную цену его характеру и его интеллекту. Этот фильм - попытка разобраться, что движет удивительным человеком и талантливым ученым Григорием Перельманом. Что значит его открытие для русской и мировой науки? А на вопрос, почему же Перельман не взял свой миллион, зрители ответят сами…
Он доказал гипотезу Пуанкре – одну из самых загадочных геометрических задач ХХ века. Возможно, что это осталось бы сенсацией лишь для узких научных кругов, но он отказался от награды в миллион долларов. А почему? Этого он никому не сказал. Впервые на отечественном экране о Перельмане рассказывают люди, которые узнали его задолго до всей этой истории, которые знают истинную цену его характеру и его интеллекту. Этот фильм - попытка разобраться, что движет удивительным человеком и талантливым ученым Григорием Перельманом. Что значит его открытие для русской и мировой науки? А на вопрос, почему же Перельман не взял свой миллион, зрители ответят сами… Лекция прочитана 4 июля 2006 года в поселке Московский в рамках II конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей математики и физики фонда «Династия».
Лекция прочитана 4 июля 2006 года в поселке Московский в рамках II конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей математики и физики фонда «Династия».