|
||
|
|
||
| Главная ≫ Инфотека ≫ Математика ≫ Ю. И. Манин: «Не мы выбираем математику своей профессией, а она нас выбирает» |
Ю. И. Манин: «Не мы выбираем математику своей профессией, а она нас выбирает»
— Изменился ли стиль занятий математикой за последние пятьдесят лет? — Индивидуальный или социальный? — Оба. — Мне кажется, что люди, которые сейчас занимаются математикой, делают это так же, как и двести лет назад. Отчасти потому, что не мы выбираем математику своей профессией, а она нас выбирает. И она выбирает определенный тип людей, которых в каждом поколении по всему свету несколько тысяч, не более того. И они все несут на себе печать людей, которых выбрала математика. Общественный стиль изменился в том смысле, что изменились социальные институты, в которых люди занимаются математикой. Очень условно, была такая эволюция. Период Ньютона, позже -Лагранжа и так далее, где формировались академии и университеты, где индивидуальные любители математики, прежде занимавшиеся параллельно еще алхимией или астрологией и обменивающиеся письмами, стали социализированы (я пропускаю античный период, его естественное развитие прервалось из-за христианства). Затем научные журналы. Все это сформировалось триста лет тому назад. Во второй половине ХХ века к этому добавились компьютеры. — А между Ньютоном с Лагранжем и второй половиной ХХ века ничего существенно не менялось? — Нет. Происходила консолидация этой социальной системы, академии плюс университеты плюс журналы. Они постепенно развивались и пришли к тому виду, который мы знаем сейчас. Я возьму первый том журнала Крелля («Журнал чистой и прикладной математики»), вышедший в 1826 году, — ну ничем он не отличается от современного. Там напечатана статья Абеля о неразрешимости в радикалах общего уравнения степени выше трех. Чудная статья! Как член редакции Крелля я бы и сегодня ее принял с удовольствием. За последние десятилетия изменился интерфейс между профессиональными математиками и социумом. В интерфейс включились компьютерщики и все вокруг них, включая разнообразный пиар, который нужен для новых методов финансирования, связанных с заявками, грантами и тому подобное. В математике это странно выглядит — сначала нужно написать, что ты сделаешь великое, а потом отчитаться. — Один из учеников Канторовича рассказывал, что тот в полугодовых отчетах писал с каменным лицом: «Теорема доказана на 50%». — В Москве, в Математическом институте, была четкая система: в план я писал теоремы, которые были доказаны в прошлом году. И весь год можно было работать дальше. Но это все мелочи. Пока, как я говорил, математика нас выбирает, и пока есть такие люди, как Перельман и Гротендик, мы будем помнить наш идеал. — Да, гранты в математике — вещь своеобразная. Но, с другой стороны, если не гранты, то какой мог бы быть механизм? — А что надо? Зарплата для человека и бюджет для института. Я, к счастью для меня, не только в Москве, но и пятнадцать лет в Бонне проработал на зарплате и бюджете и не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, что те органы, которые выплачивают эти зарплаты и бюджеты, почему-то решают, что надо переходить на рыночную систему. Но рынок плох для трех вещей: медицины, образования и культуры. Математика есть часть культуры в широком смысле слова, а не промышленности или чего-то в этом роде. — А нерыночные методы не приводят к стагнации, когда нет никакого развития? — Но до сих пор же не было никакой стагнации. — Для математики то, о чем Вы говорите, возможно, потому что математика — дешевая наука. — Именно. Я всегда говорю: «Зачем нам лезть на рынок? Мы (а) ничего не стоим и (б) не загрязняем окружающую среду». Дайте нам зарплату и оставьте нас в покое. Я совершенно не хочу обобщать, я говорю только о математике. — Вы упомянули про компьютеры. Что изменилось в математике с появлением компьютера? — В чистой математике что изменилось? Появилась уникальная возможность делать физические эксперименты в ментальной реальности. Можно пробовать невероятные вещи. Точнее, невероятные нельзя, а то, что можно, Эйлер умел делать и без компьютера. Гаусс тоже умел. Но теперь то, что умели Эйлер и Гаусс, может делать любой математик, сидя за своим письменным столом. И если у него не хватает воображения, чтобы различить какие-то контуры в этой платоновской реальности, он может поэкспериментировать. Ему пришла в голову хорошая мысль, что что-то равно чему-то, — он сядет и посчитает одно значение, другое, третье, миллионное. Более того, появились люди с математическим, но компьютерноориентированным умом. Точнее сказать, это люди, которые были и раньше, но без компьютера им чего-то не хватало. Опять, к ним относился Эйлер, в той мере, в какой он был только математиком — он был гораздо больше чем только математиком, — но Эйлер как математик сейчас бы работал с компьютерами со страстью. Еще Рамануджан, человек, который даже и математики толком не знал. Или вот, например, мой коллега по институту Дон Загир (Don Zagier). У него совершенно математический ум, который идеально приспособлен для работы с компьютером, ему компьютер помогает исследовать вот эту платоновскую реальность, чрезвычайно эффективно при этом. Я человек совершенно не такой, но я понимаю, что это, и был бы рад иметь сотрудника, который мне бы в этом помогал. Вот это то, что компьютеры сделали для чистой математики.
— А отношения математики и теоретической физики, как они устроены? — На протяжении моей жизни они изменились. Очень условно говоря, во времена Ньютона, Эйлера, Лагранжа, Гаусса взаимодействие было настолько тесное, что одни и те же люди занимались математикой и физикой. Они могли себя считать больше математиками или больше физиками, но это были одни и те же люди. Это продолжалось где-то до конца XIX века. ХХ век начал обнаруживать существенную разницу. Поразительный пример — это история общей теории относительности. Эйнштейн не просто не знал математики, он не знал даже, что уже существует именно та математика, которая была нужна ему, когда в 1907 году он начал понимать физику общей теории относительности на своем гениально интуитивном языке. После нескольких лет, посвященных квантам, он вернулся к гравитации и в 1912 году написал своему другу, математику Марселю Гроссману: «Ты должен помочь мне, а не то я с ума сойду!». Их первая статья называлась так: «Набросок общей теории относительности и теории гравитации. I. Физическая часть Альберта Эйнштейна. II. Математическая часть Марселя Гроссмана». Эта попытка была все еще полу-удача: найден правильный язык, но не правильные уравнения. К 1915 году уравнения были найдены, затем Гильберт выводит их из своего принципа действия — важность этой задачи, кажется, тоже ускользала от Эйнштейна. Увлекательная игра и сотрудничество великих интеллектов, вовлекшая историков в дурные споры о приоритете: сами главные герои были благородны и щедры на признание заслуг друг друга. Эта история для меня знаменует начало периода, когда физика и математика разошлись. И дальше расхождение это продолжалось где-то до 50-х годов. Физики придумали квантовую механику, там попутно Гильбертовы пространства им понадобились, уравнения Шредингера, квант действия, принцип неопределенности, дельта-функция. Это совершенно новая физика и совершенно новая философия. Какой-то кусок математики нужен был — они его сделали. А математики — были стандартные аналитики, геометры. Что было существенно в начале века - логики стали жать, это то, что потом превратилось в computer science. Теория множеств и парадоксы бесконечности. Парадокс конечного языка, из которого мы должны получать сведения о бесконечных сущностях, — возможно ли это? Непротиворечивость, полнота. Крупнейшие вещи были сделаны. И появляется человек, Алан Тьюринг, который говорит: «Модель математического текста есть машина, а не текст». Машина! — гениально. Через десять лет — уже фон-ноймановские машины и принцип отделения программ, software, от железа, hardware. Еще 20 лет — и все готово. За это время кроме отдельных умов — фон Нойман несомненно был и физиком, и математиком, другого человека такого масштаба в ХХ веке я не знаю — в первой трети века математика и физика развивались параллельно и через некоторое время перестали обращать друг на друга внимание. В 40-х годах Фейнман написал свой замечательный континуальный интеграл как новое средство квантования, проработав его потрясающе математически, — вообразите себе что-то вроде Эйфелевой башни, которая висит в воздухе, без фундамента с точки зрения математики. Вот она вся есть, она вся работает, а стоит она неизвестно на чем. Это продолжается и по сей день. И когда в 50-е годы появились связности в расслоении и оказалось, что интеграл действия, из которого выводится уравнение для ядерных сил, грубо говоря, является давно известным из дифференциальной геометрии уравнением Янга-Миллса, тут математики начали коситься на физиков, а физики начали коситься на математиков. И оказалось парадоксальным и чрезвычайно для меня приятным образом, что мы стали учиться у физиков в большей степени, чем они у нас. Оказалось, что они с помощью квантовой теории поля и аппарата интеграла Фейнмана наработали мыслительные орудия, которые стали им позволять открывать один математический факт за другим. Не доказательства, а открытия. А дальше математики сидят, чешут голову и какие-то из этих открытий формулируют в виде теорем и пытаются их доказать нашими честными средствами. Это показывает, что то, что делают физики, действительно математически осмысленно — и физики говорят: «Мы всегда это знали, но, конечно, спасибо за внимание». Но вообще в результате мы научились у физиков, что надо спрашивать и какие предполагаются ответы — как правило, они оказываются правильными. Потом появляется Виттен, уникальное существо, человек-машина для производства великолепной математики из этой самой башни Эйфеля, висящей в воздухе. Я смотрел в Википедии: он кончал что-то неправдоподобное, то ли факультет журналистики, то ли юриспруденции, то ли еще что-то такое, потом занимался какой-то чепухой, а потом вдруг стал гениальным физиком. Причем таким физиком, что физики, связанные с экспериментом, жутко на него фырчат, косятся и прочее: не предсказал никакого спектра масс; все его предсказания относятся к моменту Большого взрыва, когда неизвестно, что было, и ничего измерить нельзя; все его универсальные законы работают в одиннадцатимерном пространстве; невероятное количество неизвестных параметров; и вообще — это не физика. Я в каком-то смысле даже и согласен. Это хозяин такого потрясающего ментального орудия, которое производит математику невероятной силы и мощи, но исходя из физической интуиции. Причем исходным материалом этой интуиции является не физический мир, а орудие, созданное Фейнманом, и разные его варианты и вариации - орудие вполне математическое, но не имеющее абсолютно никакого математического обоснования. Такой потрясающий эвристический принцип, но не мелочишка какая-то, а, я же говорю, огромное строение, только без фундамента. — А к этому уже все привыкли, что нет фундамента, и так и живут, или пытаются его построить? — Все попытки, которые были, - они все не удавались. У математиков есть одно-два приближения к тому, что следовало бы называть фейнмановским интегралом, скажем, придуманное еще в 20-е годы винеровское интегрирование. Оно применялось к броуновскому движению, там есть строгая математическая теория. Есть еще вариантики, но это намного слабее, чем нужно, чтобы работал настоящий интеграл Фейнмана. Ну, маленькая математическая теория — по силе, по мощи это несравнимо с той машиной, которая сейчас производит настоящую великую математику. Я не знаю, что будет с этой машиной, когда перестанет работать Виттен, но я очень надеюсь, что раньше это проникнет в математическую среду. Появилась небольшая индустрия — доказывать теоремы, которые угадал Виттен, причем это очень знаменитые работы. Я, конечно, не сомневаюсь, что когда-нибудь мы сделаем этот интеграл математически чисто в каком-то смысле этого слова. Но это уже вторичная работа. Такие вещи уже происходили. Никакого обоснования в старой математике не имела канторова теория бесконечностей. Можно спорить с ней как угодно, но это новая математика, новый способ думать о математике, новый способ производить математику. В конце концов со спорами, с противоречиями, явочным порядком это было принято через Бурбаков. — Похоже, на Бурбаков у математиков, пишущих на эти темы по-русски, есть разные точки зрения. Есть довольно жесткие критики всех этих теоретикомножественных обоснований -причем как раз за отрыв от физики и тех замечательных возможностей, которые от физики происходят. — Ничего тут такого особенного нет. То, что они ругают Бурбаки, означает, что они не знают, как сейчас такие вещи делаются. То, что делали Бурбаки, — это на самом деле уже пройденный исторический этап, точно так же, как сам Кантор. Но этап, сыгравший огромную роль, очень простую, — это было не обоснование математики, это была выработка единого языка математики, на котором могли разговаривать вероятностник, тополог, специалист по теории графов, логик. В одних и тех же элементарных словах, а потом уже они производили от них свои термины, которые лежат на втором, третьем, пятом этажах, но, собравшись вместе, они вполне могли договориться. «Язык — множество букв, плюс подмножество множества слов, плюс связки, плюс полный порядок — а, ну понятно, можно говорить дальше». Был такой общий язык, с точки зрения которого, например, теорема Гёделя о неполноте теряет всякую таинственность вообще. Она приобретает таинственность, когда ее начинаешь философски обрабатывать, а так — это просто теорема о том, что некая структура не имеет конечного числа образующих. Ах ты, Боже мой, да мы таких структур на фунт сушеных знаем, подумаешь, еще одна. Глубина появляется, когда мы приписываем этому определенную семантику, это уже философские обоснования математики. Поэтому Бурбаки делали совершенно не то, что думают эти ребята (я опускаю их влияние на систему математического образования Франции). *** — Каков статус гипотезы в математике? Скажем, теорема Ферма — все последние годы уже никто не пытался найти контрпример: все понимали, что она правильная и надо пытаться ее доказать. И еще есть такие же знаменитые утверждения, в теории чисел их, наверное, много. — Я тут занимаю позицию, разделяемую далеко не всеми, я слышал много споров со мной на эти темы. Я должен вам объяснить, как я себе математику воображаю. Я эмоциональный платоник (не рациональный, никаких рациональных аргументов в пользу платонизма не существует). Для меня так или иначе математическая работа есть открытие, а не изобретение. Я воображаю себе какой-то замок или что-то там такое, и вот ты постепенно что-то в тумане видишь и начинаешь что-то исследовать. Как ты формулируешь то, что ты увидел, зависит и от типа твоего мышления, и от масштабов того, что ты увидел, и от социальной обстановки вокруг, и так далее. Это может формулироваться как отсутствие или присутствие чего-то. Икс-квадрат плюс игрек-квадрат равно зет-квадрат. Замечательно, можно формулой написать все целочисленные решения — в каком-то смысле это было известно уже Диофанту. Когда ты это сделал, возникает вопрос: хорошо, а если куб? Ищешь-ищешь — ничего нет. Хм, как странно. А четвертая если степень? Хм, опять ничего нет. А может, дальше вообще ничего нет? И ты открываешь разницу между степенью два и степенью три, четыре и так далее. История теоремы Ферма — это вот такая история. Но когда так ставишь задачу, что что-то равно чему-то или что чего-то никогда не бывает, то никогда заранее не известно, хорошая это задача или плохая, — до тех пор, пока она не будет решена или почти решена. У задач есть качество. В теории чисел очень много элементарно формулируемых задач, и мы знаем, что теорема Ферма была великолепной задачей. Но произошло это потому, что в ее истории, от постановки до решения, оказалось, что она завязана на множество вещей, априори между собой никак не связанных. И для ее решения понадобилось эти фундаментальные вещи развить. Она оказалась деталькой в огромном строении. А возьмем другие задачи, скажем о совершенных числах или о простых близнецах. Бесконечно ли множество совершенных чисел, то есть таких, которые равны сумме своих делителей, или множество пар простых чисел, разность которых равна 2? До сих пор никто эти задачи ни в какую интересную теорию не включил, хотя по формулировке они ничем не хуже теоремы Ферма. — А это свойство задачи или просто ими по каким-то социальным причинам не так активно занимались? — Как платоник я знаю, что это свойство задачи, только это то свойство, которое в момент формулировки задачи ты никак не можешь узнать. Оно выясняется в процессе исторического развития. Отчасти поэтому я не поклонник задач. Задача — это умение найти деталь, а от чего эта деталь, ты не знаешь. Я как платоник поклонник программ. Программа возникает тогда, когда крупный математический ум видит нечто целое или не целое, но куда более значительное, чем одна деталь. Но видит пока еще очень смутно. — То есть вместо одной четкой детали вы видите смутное здание? — Да. И вот вы начинаете отдувать туман, подыскивать подходящие телескопы, искать аналогии со зданиями, которые уже были открыты ранее, создавать язык для описания того, что вы смутно видите, и так далее. Вот это я, условно говоря, называю программой. Программой была канторовская теория бесконечности. Это редкий случай, она была одновременно программой и открытием, что есть шкала бесконечностей. А, скажем, континуум-гипотеза, есть ли что-то между счетным множеством и континуумом, — это вопрос, который оказался наименее важным из всего остального, но очень стимулирующим. Если бы Кантор только это спросил — плохо было бы. Значение этого открылось бы только в будущем. Но он сразу сделал гораздо больше, он сразу сделал всю программу. Программа, которая уже в течение моей жизни была знаменита, — гипотеза Вейля, сколько решений есть у сравнения по модулю р. Он сразу увидел потрясающую аналогию: в том месте, в котором он это спросил, была дыра, а в другом месте уже была полная теория, теорема Лефшеца. На заполнение этой дыры положили половину жизни Гротендик и Пьер Делинь и несколько людей вокруг него. Они эту дыру заполнили, аналогия стала точной, и родилась современная алгебраическая геометрия. В логике была программа Гильберта. Только он неправильно ее сформулировал, он хотел доказать, что все доказуемо, — он неточно увидел контуры здания, но программа развивалась: Гёдель, Тьюринг, фон Нойман, вычислительные машины и computer science — в значительной степени это все пошло от Гильберта. Пример плохой задачи (а не программы) — проблема четырех красок. Ее доказали при помощи компьютера, поэтому до сих пор вокруг нее копья ломают, — важно не это, а то, что до сих пор никто не включил ее ни в какой контекст. Поэтому это просто средство для тренировки ума. Так что вообще я задачи не люблю. Но вот когда задачи возникают уже в программе — вот тогда они могут быть хороши. Когда мы заранее знаем, к какому зданию нужна эта деталь. Гипотеза Римана, вне всякого сомнения, — задача, которая у Римана возникла в программе, хотя ее в течение полутора сотен лет узкие теоретико-числовики воспринимали как просто задачу. Я очень боюсь, что первое ее решение и будет решение тупыми аналитическими методами. Они получат все мыслимые премии, она будет разрекламирована во всех газетах мира, и это будет глупость, потому что она должна быть сделана только в большом контексте, мы его уже знаем, уже разные подходы к ней знаем. Тем не менее, вполне возможно, что впервые она сделана будет плохо,неинтересно. — А есть примеры гипотез, к которым все привыкли и считали их очевидно правильными, а потом находился контрпример? — Долго стоящих гипотез, в которые бы верили, а потом нашли опровержение, я, пожалуй, не знаю. — Если бы вдруг кто-то нашел контрпример к теореме Ферма, а не доказательство — это было бы тяжелым потрясением? Или это просто означало бы, что задача плохая? — Задача все равно была хорошая, потому что она стимулировала развитие контекста. Потом она там решается, в этом контексте. Отрицательно или положительно — это второй вопрос, это уже не так существенно. Существенно, что она помогает создать важный контекст. Если бы контрпример нашли до 60-х годов, ну, все бы почесали затылки. Если бы был обнаружен контрпример где-то в 70-м году, это было бы уже очень интересно, потому что к тому времени выяснилось бы, что теорему Ферма можно вывести, если предположить разные другие вещи, которые далеко не столь просты, имеют гораздо более всеобъемлющий характер, связаны с программой Ленглендса. Уже было известно, что если это верно, то верна теорема Ферма. Стало быть, если бы был найден контрпример к теореме Ферма, то оказалось бы, что и это неверно. А это означало бы нарушение гораздо более фундаментальной системы верований. Это вызвало бы огромный интерес и попытки понять, а что же неладно, что в этом доме надо перестроить, и так далее. Так что зависит от того, когда был бы найден контрпример. — А были в истории такие сильные контрпримеры? Может быть, теорема Гёделя — ведь верили, что все можно доказывать? — Гильберт верил, не знаю, сколько еще народу верило. Но это показало, как надо истинным образом видеть эту программу. В начале формулировки программы у людей бывают заблуждения относительно того, к чему она приведет, и контрпримеры показывают, что это заблуждения.
— Бывает недостаток воображения. В истории математики такое называют обычно не контрпримером, а парадоксом. Скажем, теорема Банаха-Тарского. У вас есть шар, и оказывается, что его можно разбить на восемь частей, повращать, поперекладывать, и окажется, что у вас получился шар вдвое большего радиуса. Этот пример очень многое прояснил. Скажем, для критиков теоретико-множественного подхода это означало, что если он приводит к таким утверждениям, то это не математика, а вздор собачий. Для логиков это был пример парадоксального применения аксиомы выбора Цермело. А, кроме того, это очень красивая геометрия. Как-то меня попросили прочитать лекцию в музее, и я придумал, что надо представить себе не материальные куски, а облака. Надо представить себе, что шар состоит из неделимых точек. Вы имеете право называть куском любое множество этих точек, вы можете его вращать и двигать, но только как целое, обращаться с ним надо как с единым целым, так, чтобы попарные расстояния сохранялись. И вы разбиваете шар не на твердые куски, а на восемь туч. И они все взаимно-проницаемые, эти тучи, там нет ничего твердого, на самом деле. У этих туч нет ни объема, ни веса, потому что все состоит из таких вот точек.Почему тут нет очевидного противоречия — что, разве точек в шаре вдвое большего радиуса не больше, чем в исходном? Нет, их столько же, это легко доказать. Я это объяснял своему внуку — сколько точек в листе бумаги и сколько точек на стене комнаты: «Возьми лист бумаги, поставь перед собой и закрой стену. Лист стену закрывает. Теперь, если из каждой точки стены идет луч света и попадает в твой глаз, он проходит через лист бумаги. Каждой точке стены соответствует одна точка листа. Значит, их одинаковое количество». Значит и тут, если получится рассыпать шар на отдельные точки, их будет одинаковое количество - можно собрать шар и вдвое большего диаметра, и втрое, и вчетверо. Трудность не в этом. Трудность в том, что можно определить такие множества, которые не нужно дальше рассыпать, а достаточно вертеть и двигать. Это математическая хитрость, очень красивая, но, чтобы ее как следует объяснить, уже требуется больше времени. Это не контрпример, а парадокс. Во времена перехода от классической математики к теоретикомножественной таких парадоксов было несколько. Была теорема о том, что кривая может полностью заполнить квадрат. Еще было несколько таких вещей, они нас многому научили. Многим казалось, что это чистые фантазии, потом в рядах Фурье стали такие вещи открывать, и оказалось, что это не совсем фантазии, это уже почти прикладной феномен. *** — А что будет в ближайшие двадцать лет? — Я не предвижу никаких революционных изменений, потому что, на мой взгляд, революционных изменений не было и за этот трехсотлетний период. Каждый раз были новые могучие интуиции, но математика страннейшим образом сохранялась. Это тоже тема моей непроизнесенной лекции, я хотел показать развитие идеи целого числа от самых древних до сложности Колмогорова, и все это можно сделать, почти никакой новой математики не привлекая. Та же самая идея живет. Она немножко меняется в один век, в другой, меняется языковое оформление, меняется форма записи натурального числа, меняются методы обработки, но вся она совершенно инвариантна и так и продолжает жить. Ничто не забыто. И поэтому я не предвижу ничего такого экстраординарного в ближайшие двадцать лет. Происходит перестройка того, что я называю основаниями математики, не в нормативном смысле слова, а как свод подчас даже не эксплицитных правил, критериев ценности, способов представления результатов, который присутствует в мозгу у работающего математика здесь и сейчас, в каждое конкретное время. Вот это я называю основаниями математики. Их можно делать эксплицитными, при этом в нескольких вариантах, и представители разных вариантов могут начать спорить, но, поскольку это существует в мозгах работающего поколения математиков, там всегда есть нечто общее. Так вот, после Кантора и Бурбаков в мозгах, что бы там ни говорили, сидит теоретико-множественная математика. Когда я про что-то впервые начинаю говорить, я объясняю это в терминах бурбакист-ских структур: топологическое пространство, линейное пространство, поле вещественных чисел, алгебраическое расширение конечной степени, фундаментальная группа. Я иначе не могу. Если там что-то совсем новое, я говорю, что это множество с такой-то структурой; раньше была похожая, ее называли так-то; другую похожую называли так-то; а я накладываю немного другие аксиомы и буду называть так-то. Начинаешь говорить — начинаешь с этого. То есть исходным образом было это канторовское дискретное множество, на котором потом намечалось что-то дополнительное по Бурбакам. Но происходят и психологически фундаментальные изменения. Сейчас эти изменения происходят в форме сложных теорий и теорем, при которых оказывается, что замещением старого образа-структуры, например, натуральных чисел, служит некоторый правополушарный образ. Вместо множества, рассыпанного на элементы, мы наблюдаем какие-то смутные пространства, которые могут очень сильно деформироваться, отображаться друг в друга, причем каждый раз конкретное пространство не важно, а важно только пространство с точностью до деформации. Если мы очень хотим вернуться к дискретному образу, мы рассматриваем непрерывные компоненты, те куски, из которых это все состоит. Раньше все эти пространства возникали как собранные из канторовских множеств, потом были отображения между ними, собранные из канторовских отображений, потом гомотопии и т.д. Это была довольно сложная лестница, и множества были внизу. На мой взгляд — это надо проработать, я в этом уверен довольно сильно, но не на сто процентов, в общественном сознании сейчас происходит переворот: низом становится правополушарная картина мира, гомотопическая, а если вы хотите говорить в дискретных терминах, то вы производите факторизации. То есть канто-ровские точки стали не точками, а, скорее, аттракторами, областями притяжения, непрерывными компонентами и так далее — с самого начала. Канторовская проблема бесконечности перестает быть актуальной: оно все с самого начала настолько бесконечно, что если вы хотите из него изготовить что-то конечное, то вы его должны очень сильно ужать. Кстати, это параллельно тому, как мы обращаемся с фейнмановскими интегралами. Когда берешь физическое определение фейнманов-ской формулы, то первые два, три, четыре шага все формулы не имеют смысла. Сначала фейнмановский интеграл, он никак не определен. Потом ряд теории возмущений, который не просто расходится, а у него еще каждый член бесконечен. Потом регуляризируется каждый член, и каждый член становится конечным, но ряд, как правило, все равно расходится. Потом вы интерпретируете ряд. И, наконец, пройдя через эту серию бесконечностей, вы получаете финитный ответ. И таким способом была получена серия замечательных математических теорем. Я наблюдаю в этом аналог перестройки математики в терминах теории категорий и гомотопической топологии.
Беседовал Михаил Гельфанд
ТегиПохожее
|
| Главная ≫ Инфотека ≫ Математика ≫ Ю. И. Манин: «Не мы выбираем математику своей профессией, а она нас выбирает» |
|
[time: 7 ms; queries: 7]
14 Мар 2026 14:38:07 GMT+3 |



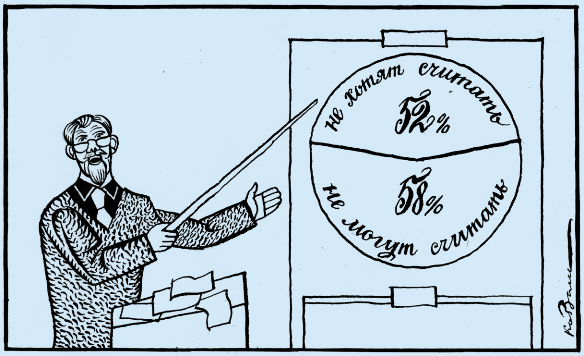
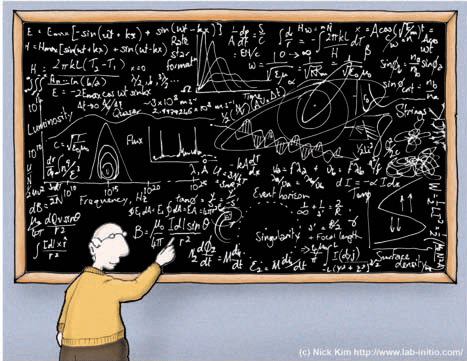
 О Москве, математике и музыке мы поговорили с Александром Буфетовым, ведущим научным сотрудником Математического института имени В.А. Стеклова, ведущим научным сотрудником ИППИ имени А.А. Харкевича, профессором факультета математики Высшей школы экономики, директором исследований Национального центра научных исследований во Франции (CNRS).
О Москве, математике и музыке мы поговорили с Александром Буфетовым, ведущим научным сотрудником Математического института имени В.А. Стеклова, ведущим научным сотрудником ИППИ имени А.А. Харкевича, профессором факультета математики Высшей школы экономики, директором исследований Национального центра научных исследований во Франции (CNRS). Интервью о пути в науку, научной среде и популяризации науки с кандидатом физико-математических наук, заведующим Лабораторией нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИКС «Курчатовский Институт» Михаилом Бурцевым.
Интервью о пути в науку, научной среде и популяризации науки с кандидатом физико-математических наук, заведующим Лабораторией нейроинтеллекта и нейроморфных систем НБИКС «Курчатовский Институт» Михаилом Бурцевым. О продуктивности Коши-математика свидетельствует целый ряд терминов, определений и понятий, вошедших в науку, таких, как признак Коши, критерий Коши, задачи Коши, интеграл Коши, уравнения Коши–Римана и Коши–Ковалевской, относящиеся к разным разделам математического анализа, математической физики, теории чисел, и других дисциплин. Всего же он написал 700 работ (по другим источникам 800), с неимоверной легкостью переходя от одной области научного знания к другой.
О продуктивности Коши-математика свидетельствует целый ряд терминов, определений и понятий, вошедших в науку, таких, как признак Коши, критерий Коши, задачи Коши, интеграл Коши, уравнения Коши–Римана и Коши–Ковалевской, относящиеся к разным разделам математического анализа, математической физики, теории чисел, и других дисциплин. Всего же он написал 700 работ (по другим источникам 800), с неимоверной легкостью переходя от одной области научного знания к другой. Это фильм в режиме включенного наблюдения, история о реальном исследовании, которое проводится в научно-исследовательском центре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета в Берлине. В центр постоянно приезжают математики русского происхождения, работающие по всему миру. Процесс ведения научных дискуссий, запечатленный на камеру, является уникальным по силе воздействия материалом: зритель становится свидетелем размышлений ученых, возникновения гениальных идей, погружается в работу команды и разделяет весь спектр эмоций участников.
Это фильм в режиме включенного наблюдения, история о реальном исследовании, которое проводится в научно-исследовательском центре «Дискретизация в геометрии и динамике» Технического университета в Берлине. В центр постоянно приезжают математики русского происхождения, работающие по всему миру. Процесс ведения научных дискуссий, запечатленный на камеру, является уникальным по силе воздействия материалом: зритель становится свидетелем размышлений ученых, возникновения гениальных идей, погружается в работу команды и разделяет весь спектр эмоций участников. Математика — это не только замечательная точная наука, но еще и удивительные человеческие судьбы. Девушка из Ирана по имени Мариам Мирзахани стала первой в мире женщиной, получившей Филдсовскую медаль — пожалуй, самую престижную награду в математике. Мариам показала как иранским ученым, так и простым людям, в частности женщинам, — чего может добиться человек собственным умом и собственной настойчивостью.
Математика — это не только замечательная точная наука, но еще и удивительные человеческие судьбы. Девушка из Ирана по имени Мариам Мирзахани стала первой в мире женщиной, получившей Филдсовскую медаль — пожалуй, самую престижную награду в математике. Мариам показала как иранским ученым, так и простым людям, в частности женщинам, — чего может добиться человек собственным умом и собственной настойчивостью.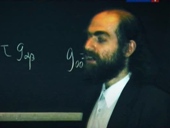 Он доказал гипотезу Пуанкре – одну из самых загадочных геометрических задач ХХ века. Возможно, что это осталось бы сенсацией лишь для узких научных кругов, но он отказался от награды в миллион долларов. А почему? Этого он никому не сказал. Впервые на отечественном экране о Перельмане рассказывают люди, которые узнали его задолго до всей этой истории, которые знают истинную цену его характеру и его интеллекту. Этот фильм - попытка разобраться, что движет удивительным человеком и талантливым ученым Григорием Перельманом. Что значит его открытие для русской и мировой науки? А на вопрос, почему же Перельман не взял свой миллион, зрители ответят сами…
Он доказал гипотезу Пуанкре – одну из самых загадочных геометрических задач ХХ века. Возможно, что это осталось бы сенсацией лишь для узких научных кругов, но он отказался от награды в миллион долларов. А почему? Этого он никому не сказал. Впервые на отечественном экране о Перельмане рассказывают люди, которые узнали его задолго до всей этой истории, которые знают истинную цену его характеру и его интеллекту. Этот фильм - попытка разобраться, что движет удивительным человеком и талантливым ученым Григорием Перельманом. Что значит его открытие для русской и мировой науки? А на вопрос, почему же Перельман не взял свой миллион, зрители ответят сами… Лекция прочитана 4 июля 2006 года в поселке Московский в рамках II конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей математики и физики фонда «Династия».
Лекция прочитана 4 июля 2006 года в поселке Московский в рамках II конференции лауреатов Всероссийского конкурса учителей математики и физики фонда «Династия». Математика — универсальный язык Вселенной, фундамент, на котором основаны все другие науки. Как человечество смогло открыть тайны этого универсального языка? Начиная с древнейших времен, прослеживается история математики до наших дней и завершается рассказом о наиболее важных проблемах современности. Их решение позволит лучше понять устройство нашего мира.
Математика — универсальный язык Вселенной, фундамент, на котором основаны все другие науки. Как человечество смогло открыть тайны этого универсального языка? Начиная с древнейших времен, прослеживается история математики до наших дней и завершается рассказом о наиболее важных проблемах современности. Их решение позволит лучше понять устройство нашего мира.